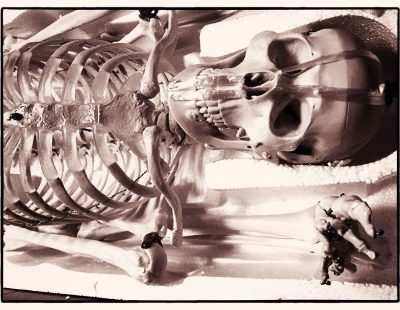Алексей Яблоков, Сергей Мостовщиков
Илья Фоминцев хочет жить вечно
Беседа о раке, импровизации и гуманизме

Питерский онколог Илья Фоминцев руководит созданным им же Фондом профилактики рака, а также считается основателем Высшей школы онкологии. Кроме того, он известен парадоксальными идеями о раке и методах его профилактики. Например, считает, что ранняя профилактика рака далеко не всегда эффективна и способна принести больше вреда, чем пользы. Что люди не ходят на обследования не потому, что боятся, а потому, что это дорого и неудобно. Фоминцев вообще любопытный собеседник хотя бы потому, что хочет жить вечно, что в нашей сиюминутной ситуации — огромная роскошь. Грех этой роскошью было не воспользоваться, тем более накануне отъезда в экспедицию доноров костного мозга «Совпадение», в ходе которой мы собираемся агитировать население за продление жизни на Земле. Так что мы взяли у Фоминцева интервью, которое вам сейчас предстоит прочитать.
— Почему вы решили заниматься именно онкологией, если не секрет?
— Да нет никакого секрета. Мне всегда казалось, что это такая специальность… в ней практически не возникает вопроса, зачем я это делаю. В какой-нибудь физиотерапии, например, возникает. Однако, погрузившись в онкологию как следует, я понял, что и здесь без этих вопросов не обойдется. Я работал хирургом-онкологом в областном диспансере здесь, в Питере. Работал пять лет, а потом вдруг понял, что мне уже 28, и у меня начинается первичный кризис среднего возраста. Каждый день я делаю одно и то же, как хирург не развиваюсь, а значит, потихонечку деградирую. Я вдруг представил себе, что будет дальше. При самых лучших раскладах стану заведующим отделением, буду ковыряться лет до шестидесяти, а потом мне вручат чугунного коня. И я с сизым носом, спившийся, буду сидеть с «беломориной» у телевизора и ругать власть. Потом инсульт. И, собственно, все.
Мне как-то не захотелось этого. Я понял, что мне нужен масштаб. Но какой именно, я пока не знал. И тут у меня заболела мать. Она умерла от рака. Решение стало понятным: нужно заниматься профилактикой. Но как именно? Я даже понятия не имел. Но я был очень деятельный, поэтому все бросил и ушел в частную клинику. Сидел там на приеме целый год — тоже как хирург-онколог. Сиськи, извиняюсь, щупал — в прямом смысле слова. Я же маммолог. И вот щупал, а свободное время использовал для того, чтобы разузнать про профилактику рака.
— Как вы это делали?
— У меня были некие первичные идеи. Была в голове максима: мол, главное — раннее выявление. Буду рано выявлять. Ради этого я договорился со своей частной клиникой, чтобы организовать бесплатный профилактический прием. Это было вообще смешно. Я везде ездил с этим шоу — тогда же не было еще жестких законов насчет оказания медицинских услуг населению только на территории медучреждения. Поэтому я приезжал на какое-нибудь предприятие и массово обследовал там женщин. Таким образом я за год осмотрел примерно три тысячи человек.
— Это в каком году было?
— 2008–2009-й, кажется.
— То есть вы что, ездили на заводы, и вас свободно пускали туда?
— Да! Самое удивительное, что никто ни разу даже не спросил меня про диплом или какой-нибудь сертификат. Говорили: «Да, конечно, приходите!» Люди у нас доверчивые. Я сам каждый раз удивлялся. Кто-нибудь спросит наконец, кто я такой? Да никто! Из этих трех тысяч женщин ни одна не поинтересовалась.
— У кого-то из этих трех тысяч вы что-нибудь выявили?
— Да, выявил, конечно. И много выявил. Они потом все приходили в клинику, где я работал — почему, собственно, главный врач и согласился на такой перформанс. Но в какой-то момент я ему сказал: невозможно все время ездить по этим заводам, городам и весям. Давайте сделаем у нас в клинике центр, постоянно действующий. Это же была, на самом деле, медсанчасть Балтийского завода, где я работал. Она формально частная, но при этом ведомственная. В общем, мы там открыли кабинет для приема. Дали в газете «Мой район» небольшую заметку, что вот, мол, такой центр открылся, где можно бесплатно обследоваться у маммолога. И на следующий день случилось такое… у меня в голове просто все перевернулось.
— Никто не пришел?
— Да наоборот! Был настоящий треш, Содом и Гоморра! Я прихожу на работу, администратор говорит: «Что вы натворили?» Люди к шести утра пришли. Весь коридор был забит. Как в метро в час пик. Люди на руку записывали телефончики, номерки какие-то… Самоорганизовались уже. Я начинаю звонить знакомым онкологам: ребята, нужна помощь, выручайте, мол!
Я думал, это просто какая-то аномалия. Но потом, когда мы начали делать подобные акции по всей стране, оказалось, что так это происходит везде. Странное явление. Я сначала хватался за голову, но потом все себе объяснил. Это проистекает от недоверия к врачам. Казалось бы, что такого — ты ведь можешь бесплатно сходить к онкологу в поликлинику. Но нет, люди не верят поликлинике. Никому не верят.
— А вам-то почему верят?
— Наверное, потому, что я делаю что-то необычное.
— Бесплатный прием в платной клинике?
— Ну, я пытаюсь быть с пациентами не функцией, а живым человеком.
— Что это значит? Вы строите общение с пациентами на равных?
— Да. Очень простой рецепт для успешной коммуникации: не использовать никаких признаков иерархии. Обычно ведь врачи общаются свысока. Считается, что чем ты более важный, недоступный и недосягаемый, чем больше у тебя фикус в кадке и сертификатов за спиной, тем ты круче. Никто не считает нужным спуститься на уровень пациента и говорить его языком.
— А какой язык у пациента? Как с ним надо говорить?
— Лучше скажу, как не надо. Не надо говорить с пациентом, как Минздрав. Например, Минздрав тратит огромные бюджеты на коммуникативные кампании типа «Рак не приговор!». Секунду. Как вообще можно такое писать и говорить? Ну как?! Я уж молчу про то, что эта фраза ну очень сильно раздражает людей, для которых рак — это все-таки приговор. Но подумаем: кому вообще адресовано это сообщение? Людям, которые болеют раком? Так они сами прекрасно все знают про свой диагноз. Канцерофобам, которых надо привлекать? А вы вообще исследовали долю канцерофобов среди населения, нет? Насколько вообще население боится рака? С чего вы вообще взяли, что люди его боятся? Почему-то считается, что стоп-фактором, скажем, для скрининга является именно боязнь рака, вот люди на него и не идут. А когда ты лично расспрашиваешь, почему они не идут, выясняется совершенно другое.
— Например?
— Да, например, это тупо неудобно. Целый день надо потратить на скрининг, плюс еще и деньги, если мы про чекапы говорим… Это и дорого, и неудобно. Ну смотрите: конец месяца на дворе, Нинке ботинки нужно купить. У тебя альтернатива: потратить деньги на ботинки или потратить их… на что?! У тебя и жалоб-то нет. На что тратить? На лечение чего-то мифического, что даже пощупать нельзя? Что-то мне подсказывает, что вы в конечном счете выберете ботинки для Нинки. Собственно говоря, в этом и заключается коммуникационная ошибка. Есть ощущение, что Минздрав просто не проводит нормальных исследований перед тем, как начинать свои кампании.
— А вы, стало быть, проводите?
— Во-первых, еще как проводим. Во-вторых, я по крайней мере пытаюсь подвергать сомнению собственные идеи и методики. Например, я начал с того, чтобы призывать всех к раннему выявлению рака, а теперь я убежден, что никакое раннее выявление не нужно.
— Как это так?
— Ну так. Вы, например, знаете, что сам процесс скрининга может нанести вред? И поскольку вы этот вред распределяете на огромную массу людей, а пользу из скрининга извлекает очень-очень малое количество народу, то получается, что чисто статистически вы приносите больше вреда, чем пользы. Есть вообще лишь несколько опухолей, при которых польза от скрининга превышает вред от него. Это, например, рак шейки матки, колоректальный рак и рак молочной железы пока еще. Но скоро, видимо, это дело обсчитают математически и, я думаю, вычеркнут из списка. Возможно, место этого рака займет рак легких. Короче, скрининг — такая штука, где кашу маслом можно испортить, да еще как. Поэтому мы перед тем, как сделать что-то, заранее стараемся дать своим действиям оценки.
— Когда вы говорите «мы» — вы кого имеете в виду?
— Наш Фонд профилактики рака.
— Давно вы основали его?
— Формально в 2010 году. А реально действуем с 2008-го.
— Основатель — вы?
— Я. Мне кажется, первые семь-восемь лет работы фонда я метался, как курица с отрубленной головой, причем впотьмах. Совершил массу ненужных действий и движений. Конечно, может быть, я и про сегодняшнюю работу через десять лет скажу то же самое. Не знаю. Но тогда у меня не было даже специального образования. К сожалению, наше медицинское образование не позволяет принимать взвешенные решения ни в области public health, ни в области медицинского управления. Поэтому у меня не было ни стратегии, ни представления о том, куда я иду. Камо грядеши какое-то. Первый свет забрезжил в этой темноте, когда у нас по случайности, по счастливому везению появилась Высшая школа онкологии. Это наш топовый проект.
— Название вполне пафосное. Кто придумал?
— Жена одного из преподавателей. Звучит солидно, да. Долгое время писали High School of Oncology, потом поменяли на Higher School. Добрые люди указали нам, что есть разница, потому что high school — это «средняя школа».
— Как появился этот проект?
— Совершенно случайно. Году в 2015-м у нас был творческий кризис. Ничего нового не появлялось, а денег в фонде не было вообще. И тут вдруг звонок из компании ППФ «Страхование»: «Вы не хотите сделать что-нибудь масштабное в сфере маммологии? У нас есть 200 тысяч рублей». Масштабное? В сфере маммологии? За 200 тысяч рублей?! Что тут масштабного можно сделать, кроме пьянки? Мы посмеялись, но стали все-таки думать, рассуждать и вдруг вспомнили, что ординатура в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова стоит 190 тысяч рублей. И решили: устроим-ка конкурс для молодых онкологов. Кто выиграет — тому мы оплатим ординатуру.
Идея была неплохая. Я ведь тоже проходил ординатуру, знаю, как это происходит. У людей из регионов шансы практически нулевые. Ну были во всяком случае, сейчас система вроде бы изменилась, но еще несколько лет назад поступить бесплатно в Питер или в Москву было просто невозможно. Поэтому мы организовали конкурс. Запилили во «ВКонтакте» всякие мемчики, собрали людей со всей России. И когда они приехали сюда — десять человек! — нам стало страшно. Они ведь живые. И главное, все умные такие. Чего делать-то с ними?
— А в чем заключался конкурс?
— Там было три этапа. Надо было заполнить и прислать нам анкету, мы их вручную отбирали, ранжировали, потом они писали работу, а потом мы их уже отбирали окончательно, и они приезжали в Петербург на собеседование. Реально умные ребята.
В финале конкурса собрали мы профессуру НИИ им. Петрова — целая коллегия. Директор сидит, профессора. Они нам говорят: «Слушайте, времени мало. Скажите — кого надо взять в ординатуру, и мы пойдем уже». Я говорю: «В смысле?» — «Ну вы же спонсоры». Я говорю: «Мы вообще-то для того вас тут собрали, чтобы вы выбрали сами». Одна профессорша говорит: «Я что-то не поняла, а что, звонков сверху не было, что ли?» Я говорю: «Да нет, никаких звонков». И тут такое началось! Я думал, они друг друга перебьют. Три часа сидели, орали друг на друга, все красные! Выбирали. Первый раз им вот так дали самим повыбирать специалистов. У нас очень хороший народ на самом деле. Если с ним по-людски. Давать возможность самостоятельно принимать решения. И профессора тоже ведь народ. Прямо так искренне взялись — стали всех этих ребят опрашивать, вопросы им задавать. Бедные дети сидели ни живы ни мертвы. И в конце концов директор НИИ говорит: «Слушайте, 190 тысяч рублей — это не так много. Давайте их всех примем!»
— Да ладно!
— Да. Десять человек. Всех приняли. Нашли даже спонсоров, чтобы стипендию им платить. Примерно в то же время я познакомился с Вадимом Гущиным, это такой крупный хирург-онколог, живет в США. Очень умный мужик. Просто исключительный. Он предложил мне с этими ребятами позаниматься, я сказал: «Конечно», и сам тоже стал присутствовать на этих занятиях, и у меня представления об онкологии перевернулись полностью. Я понял, что мы делаем что-то совсем другое. Новая идеология появилась очень быстро. Или внутренняя культура, что ли. В общем, появилась сущность, которой не было.
— Можете описать ее?
— Это некое новое содружество врачей, у которых очень тесный внутренний контакт, очень сильна дружба между ними…
— Что-то типа врачебных комитетов? За границей они имеют решающее влияние на лечебный процесс.
— Да, что-то вроде этого. Они говорят одними терминами, у них одна на всех история, это настоящее содружество. Они абсолютно понимают друг друга. Они на три головы выше, чем любой ординатор. Естественно, это тут же вызвало лютый баттхерт у всех остальных. Во-первых, сильно раздражало название «Высшая школа онкологии». «А мы что тут, средние, что ли?» Во-вторых, что тоже всех раздражало — эти ребята неразбиваемые, с ними нельзя договориться, забрать одного, подчинить себе, встроить в иерархию. Для него всегда важнее этот союз. Появилась формация, с которой непонятно чего делать. У них в принципе культура общения плоская: то есть нет ни иерархии, ни дедовщины. А ведь в наших вузах уже давно сложилась жесточайшая иерархия: препод — неприкасаемый человек. Великий.
— В медицинских вузах везде так?
— Там это ярко выражено, а в хирургии особенно. Студент — нижнее звено пирамиды. Сырье, с которым можно делать что угодно. И это офигенно странная история. Вообще-то вузы должны делать все ради студентов, а не наоборот. А у них есть некий рабовладелец, перед которым они отчитываются, и это ни фига не студент.
— Возвращаясь к вашему содружеству. Что им делать — таким новым и чистым, когда они выпускаются из ординатуры? Куда им деваться — идти в частные клиники? Свои открывать?
— Очень сложно им, да. Это большая проблема. Поэтому открывают свое. Собственно, так появилась клиника «Луч», которую мы открыли при Высшей школе онкологии. Вот так зажил наш проект… А я поступил в Стокгольмскую школу экономики — буквально сегодня заканчиваю ее, сдаю последний экзамен.
— Поступили на управление?
— Да, executive MBA. Я теперь совершенно по-другому смотрю и на стратегию управления, и на маркетинг…
— А на рак вы как смотрите? Что это такое сейчас, с вашей точки зрения? Как он действует на общество?
— Честно говоря, на мой взгляд, рак сейчас сильно переоценен. Как заболевание.
— Ну то есть? Про него вон даже книгу написали, что рак — царь всех болезней.
— Вообще говоря, этот самый Сидхартха Муккерджи, автор книги, имел в виду совсем другое: что рак — это офигенно интересное и сложное заболевание. Красивое заболевание. А не в том смысле, что рак — главный.
— Если он переоценен, то как к нему надо относиться на самом деле?
— На самом деле это болезнь как болезнь, каких много. Умирают от нее в основном в старости. Плохо, когда умирают в молодом возрасте — это как раз и есть основная проблема восприятия рака в обществе. Потому что там есть период неизбежности, и это всех дико пугает. Очень сильно пугает. Когда ты умираешь от инфаркта — это часто дело пяти минут. Бах, и нет тебя. А с раком — ты точно знаешь, что конец будет не сразу, и вот этого люди боятся.
— Есть мнение, что рак, как это ни парадоксально, сегодня выступает как ресурс, как инструмент гуманизации общества. В эпоху, когда самая эффективная экономическая модель — это дегуманизация, деперсонализация, рак как бы возвращает нас к идее того, что люди смертны, слабы, что для жизни им необходима поддержка, что существуют базовые человеческие ценности и так далее.
— Общество всегда будет выбирать какой-то объект для социального взаимодействия, хотите вы этого или нет. Раньше это были инфекции. Войны. А сейчас рак — по биологическим причинам. Потом это будет что-то другое, может, Альцгеймер. В любом случае останется что-то, что продуцирует заботу друг о друге.
— Через две недели мы отправляемся в экспедицию «Совпадение», будем ездить по России и рассказывать людям про донорство костного мозга… В чем сложность этой миссии, по-вашему?
— Мне кажется, в самом поступке донора костного мозга заложено типичное покупательское поведение. Только он расплачивается не деньгами, а собственным костным мозгом…
— А за что он, собственно, расплачивается? И что за это приобретает?
— Ценности. Ценности, которые ему жизненно важны. В случае с донорством костного мозга — это ценности универсализма в первую очередь. Одно дело, когда вы проявляете заботу о местном сообществе, то есть о близких. Но универсализм — это следующий шаг, когда человек уже немножко над этим всем. Когда он понимает, что поддержка близких — это прекрасно, но есть и другие микросоциумы, о которых надо заботиться. То есть он начинает заботится о человечестве как таковом. И мне кажется, потенциальные доноры костного мозга и те, кто готовы ими стать — это как раз люди с универсалистскими ценностями. Скорее всего это те же самые люди, которые заботятся о природе, зоозащитники и так далее. В общем, я подозреваю, что ваши прямые конкуренты — это какой-нибудь Фонд защиты дикой природы, WWA.
— Иными словами, чтобы понять донора костного мозга, нужно понять панду. Возьмем на заметку. Давайте закончим вот на чем. Попробуем понять вас как личность. Кто вы?
— Я? Управленец.
— И чем вы управляете?
— Могу сказать. У меня есть такая теория, очень смешная, родилась еще в детстве. Я прекрасно понимаю, что континуум, в котором я живу, — он конечный. Но зато информационный континуум — он бесконечный.
— То есть вы хотите быть бессмертным?
— Да.
— Спасибо, до новых встреч.
Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.
Ваша,
Кровь5