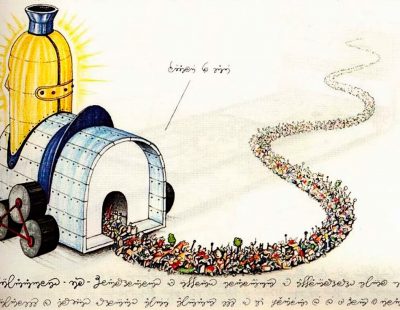Алексей Яблоков, Сергей Мостовщиков
Костный мозг — детям!
Правила Георгия Менткевича

Перед тем как отправиться в экспедицию «Совпадение», проект Кровь5 встречается с главными специалистами в области донорства. С их помощью мы стараемся понять, как обстоят дела в современной российской онкологии и трансплантологии, в каком состоянии пребывает не только отечественная медицина, но и общество в целом. В этот раз наш собеседник — ведущий детский онколог, руководитель отделения трансплантации костного мозга РОНЦ им. Н. Н. Блохина профессор Георгий Менткевич. По странному стечению обстоятельств день нашей встречи стал последним рабочим днем для Георгия Людомировича: вечером он был уволен новой администрацией онкоцентра с должности заведующего отделением, которое сам создал и возглавлял почти 30 лет.
— Расскажите, как вы начали заниматься онкологией да еще и детской?
— Тут есть определенный курьез. Когда я учился в институте, я даже не собирался заниматься гематологией. Более того, я проходил ординатуру в Институте педиатрии и из своего двухлетнего цикла гематологию вообще исключил. Тогда была такая возможность.
— Вы боялись крови?
— Нет, не боялся, просто какие-то вещи меня интересовали, а какие-то совсем не интересовали. Мне очень хотелось заниматься нефрологией. Но в суть событий, как всегда, вмешались советские социалистические обстоятельства. В Институте педиатрии было много ординаторов, и, как правило, это были дети академиков. Есть такой анекдот: «Может ли сын профессора стать генералом? Не может, потому что у генерала уже есть свой сын». Так что я абсолютно четко себе представлял, что после окончания ординатуры меня не оставят в Институте педиатрии. Я не был сыном академика, отец у меня иностранец, поляк, никогда не имевший российского гражданства. Я начал сам искать себе место. Оказалось, место есть в онкоцентре Блохина на Каширке. Там нужен был врач приемно-поликлинического отделения. Я отчислился из ординатуры, мне так и сказали: хочешь работать, надо отчисляться.
В общем, пришел сюда, в онкоцентр. Это было в самом начале 1982 года. Здесь в отделении гематологии тогда работала легендарная Лидия Махонова, одна из основоположников детской онкогематологии в России. Она начала внедрять очень современные по тем временам методы лечения лейкозов… Ну и как-то меня это все переубедило. Я поступил в заочную аспирантуру, в приемном покое начал работать, в поликлинике, в отделении гематологии…
Все складывается по-разному в жизни. Потом я перешел в отделение онкологии, помогал там в хирургии, три года проработал. Мне предложил туда перейти Лев Абрамович Дурнов, родоначальник детской онкологии в России. Это оказался бесценный опыт. Когда у нас сейчас кто-то из детских онкологов знает только лимфобластный лейкоз — это плохо. Надо детскую онкологию знать всю. Ну и желательно, конечно, знать педиатрию.

Так вот, проработал я три года в онкологии, а потом в 1990-м правительство решило построить в РОНЦе отделение трансплантации костного мозга. На наше отделение и на отделение в РДКБ выделили по 600 тысяч долларов. Меня вызвал к себе Дурнов и сказал: «Хирурга из тебя не получится, я уже это вижу. Ты молодой, ты занимаешься химиотерапией. Давай думай про новое отделение». И правда, хирургия меня не очень сильно увлекала. Это ведь, знаете, как скрипка. Если каждый день не пиликаешь — ты не скрипач. Так что я поехал на выставку здравоохранения — как раз она проходила — нашел там немецкую компанию «Штеак», чьи сотрудники согласились построить нам отделение трансплантации костного мозга.
— Просто пошли на выставку и договорились?
— Я ходил-ходил по этой выставке, никак не мог найти кого-то, кто делает стерильные палаты. И когда я уже думал уходить, вижу: в углу сидит какой-то грустный мужичок. Грустит, что никто к нему не подходит. И над головой у него написано «Штеак». А «Штеак», как мы потом выяснили, это огромнейший немецкий концерн. Который маленьким своим сегментом занимается стерильными комнатами. А вообще-то это военно-промышленный комплекс.
В общем, сидит этот мужичок, полутрезвый-полупьяный. Я говорю, мол, привет, делаете палаты? Он говорит: делаем. Ну и все, дело пошло. Естественно, этим занимался не я лично, а «Союзздравэкспорт», мы их просто свели, они о чем-то там договорились и построили нам отделение трансплантации костного мозга. В 1991 году оно открылось и работает до сих пор.
— Что оно собой представляло на тот момент?
— Как тогда, так и сейчас — пять стерильных боксов. Позже мы получили еще две палаты, которые переоборудовали уже сами в стерильные. В общем, сейчас отделение работает на семи койках.
Параллельно сложилось так, что где-то в 1990 году было очень тесное взаимодействие между нашей детской онкологией и компанией «Роналд Макдоналд», потому что у них есть фонд Роналда Макдоналда. В США возили наших детей, привозили сюда американских. Но главное — приезжал к нам очень известный американский профессор-онколог Стюарт Сигал. В то время он возглавлял крупнейшую онкологическую программу в Лос-Анджелесе. Так совпало, что у нас в онкоцентре уже зрела идея нового отделения. Кроме того, я несколько отличался от других молодых врачей, потому что оканчивал спецшколу по английскому языку. Меня вызвали, говорят: «Английский знаешь?» Отвечаю: «Знал, но забыл». Мне говорят: «Давай вспоминай. Вот тебе американский профессор, и чтобы мы его здесь больше не видели. Вози его по Москве, что хочешь, то и делай». Так и было, клянусь!
— И вы возили профессора по Москве?
— Да, взял у мамы машину «Жигули», повез его в Новодевичий монастырь, туда-сюда… Пять дней я его катал, потом привез, наконец, на вокзал — он должен был поездом ехать в Питер. И вот он меня благодарит, даже деньги пытается предлагать за помощь и экскурсии, а я говорю: «Да ты что, это вообще исключено!» И тут он на меня смотрит и говорит: «А хочешь, я тебе организую стажировку у нас в госпитале?»

Я говорю: «Конечно, хочу, это было бы очень важно в свете всех наших затей». И он уехал. Напоминаю: это был 1990 год. Мобильных телефонов нет, интернета нет, факс только у директора, и то под ружьем, особенно международный факс. И вдруг вызывают меня в наш первый отдел. Везде же был первый отдел, и у нас в РОНЦе тоже. Сидит там товарищ с огромным конвертом. Конверт, естественно, вскрыт, в нем письмо, а в письме говорится, что госпиталь Лос-Анджелеса вместе с Национальным институтом рака приглашают меня на полугодовую стажировку, оплачивают билеты, стипендию и так далее. И я поехал.
Так все и закрутилось. С тех пор я отправил в Америку на стажировку больше десяти своих врачей. Они там организовали фонд помощи нашему отделению и принимали врачей на обучение. Так это и продолжалось фактически до нынешнего дня.
— Вот вы говорите про начало 1990-х. Что на тот момент было в СССР известно про пересадку костного мозга?
— Если говорить о создании детского отделения трансплантации, то, конечно, мы были первыми. Но это не значит, что трансплантации костного мозга не делали. Например, их делали в 6-й больнице после чернобыльской катастрофы, туда приезжал профессор Гейл, который оттрансплантировал определенное количество больных.
Вообще, на самом деле, в Америке отношение к Гейлу всегда было очень скептическое. Я не мог понять, почему — ведь приезжает в Москву настоящий профессор, делает трансплантацию, все как надо… Но дело в том, что результаты его действий были закрытыми! И только лет десять-пятнадцать назад на каком-то из конгрессов их обнародовали. И я понял одну вещь: тех чернобыльских больных не надо было трансплантировать.
— Почему?
— Потому что трансплантация им не могла уже помочь. Ведь что мы делаем во время трансплантации? Мы убиваем иммунную и гематологическую систему. При этом стараемся не убить организм: печень, почки, легкие… То есть все строго дозировано. И когда мы даже говорим о тотальном облучении тела, то это все же определенные дозы облучения. Дайте этих доз в два раза больше — и ничего уже не поможет. Те больные, ликвидаторы, бегали по крыше реактора. Они получили дозу облучения, несовместимую с жизнью. Причем лучевая нагрузка распределялась неравномерно, поэтому у кого-то иммунная система не пострадала. А ее взяли и убили, довершив дело, потому что было принято решение о трансплантации. То есть абсолютно безграмотно все это было. Естественно, все они погибли. И я понял, почему к Гейлу в США такое отношение.
— А откуда вообще брали костный мозг для трансплантаций в те годы?
— Откуда его брал Гейл для ликвидаторов — я не знаю. А когда мы открыли отделение, это в основном была аутотрансплантация и родственная трансплантация от сиблингов — братьев и сестер. То есть все было весьма ограниченно у нас в этом плане.

— Вы тогда уже типировали доноров и реципиентов?
— Да, конечно, это было то же самое HLA-типирование, что сейчас, только, конечно, там было гораздо ниже разрешение, меньше аллелей, но я так себе представляю, что для родственной трансплантации высокое разрешение не столь обязательно.
Почему-то в России очень редко встречаются совместимые с донором брат или сестра. Хотя в моем представлении донор должен быть в 25% случаев в семье пациента. В связи с этим мы с 2002 года первыми начали развивать новое направление — пересадка от частично совместимых родственников. То есть от мамы или от папы, если нет в семье совместимого брата или сестры.
— Вы имеете в виду гаплоидентичные трансплантации от родителей? Это когда чужеродные примеси, которые могут вызвать отторжение, специально фильтруют?
— Да, гаплоидентичные. Мы начали делать эти гаплопересадки у себя — так, как рекомендовали делать исследователи из Италии. Было одно небольшое исследование, его проводили в Падуе, кажется. С инкубацией винкристина и преднизолона. Потом мне повезло — я попал в клинику Хандретингера в Германии, в Тюбингене. Он, по всей видимости, один из родоначальников этого метода — селекции CD34-положительных клеток. Я туда приехал, он мне все показал, все там было замечательно. Потом я послал туда двух сотрудников, чтобы они переняли этот метод, и мы бы начали делать гаплопересадки у себя. Но ребята у нас оказались очень умные. Они посмотрели и сказали: «Восстановление медленное. Инфекций много. Рецидивов очень много». И мы перестали это делать. Потому что на тот момент, когда это только начиналось, это реально работало плохо. С точки зрения развития иммунодефицита, рецидивов и так далее.
Надо заметить, что я тут отдаю абсолютный респект Мише Масчану, который фанат этого дела. Он крупнейший специалист в области гаплоидентичных пересадок, он создал в институте при клинике имени Димы Рогачева целую лабораторию. Каждая гаплотрансплантация стоит офигенно дорого. Офигенно! Но результаты в конечном итоге могут оказаться такими же, как при трансплантации от неродственного донора из регистра. По-моему, эта методика пока не решает проблемы излечения больного. К сожалению, она решает лишь проблему поиска донора.
У меня лично в этом плане очень взвешенное отношение вообще к проблеме трансплантации — именно в детской онкологии. Основной упор тут должен быть сделан на совершенствовании методов первичной диагностики и лечении пациентов. Нужно все делать так, чтобы не доводить дела до пересадки. Вопрос стоит так: если вы плохо лечите первичные опухоли, вам нужно больше трансплантаций. У вас больше рецидивов, вам без трансплантаций никуда не деться. Если вы хорошо лечите лимфобластный лейкоз, вам нужно меньше трансплантаций. И чем меньше мы их сделаем, тем более мы счастливы. Какая бы удачная трансплантация ни была, это все равно очень тяжелый метод лечения, крайний метод.

— Вы уже почти 30 лет работаете в онкологии. Как за это время изменилась ситуация с онкозаболеваниями в нашей стране?
— Обо всей стране мне говорить трудно. Специфика работы нашего института — это развитие новых методов, которые мы не можем экстраполировать на всю Россию. Скажем, лимфобластный лейкоз мы лечим по немецкому протоколу в отличие от всех остальных клиник. И так по многим онкозаболеваниям. В некоторых дисциплинах мы достигли весьма существенных результатов по сравнению с тем, что было, когда я начинал работу. То есть миелобластный лейкоз — было 15–20% выздоровлений, сейчас 60%. Лимфома Ходжкина третьей-четвертой стадии по нашему протоколу — 97%. B-клеточная лимфома, лимфосаркома — 97% излечиваются независимо от стадии. Четвертая стадия излечивается! Мы пришли к медуллобластоме — более 60% больных выздоравливают. То есть, конечно, ситуация изменилась.
Но у меня есть впечатление, что за последние пять-шесть лет мы столкнулись уже с теми больными, которых этими достижениями вылечить не можем. Большое разочарование для меня — диссеминированная нейробластома крайне высокого риска. При этом заболевании нам удается лишь удлинить длительность безрецидивного течения. Да, больной рецидивирует не через год, а через три. Пока мы наблюдаем за ними, но кривая все равно медленно-медленно снижается. Больные старше двух лет с поражением костей, костного мозга… Не очень сильно тут продвинулись… Практически не продвинулись мы в лечении больных с глиомами ствола головного мозга. Это вообще катастрофа. Более того, сейчас такие настроения, что им даже биопсии не делают, мы не знаем, от чего реально погибает больной, от какой молекулярной субстанции.
— А в Америке, в Европе как с этим обстоят дела?
— Там есть кое-какие исследовательские протоколы, конечно, мы их изучаем и обсуждаем этот вопрос с нейрохирургами. Кстати, с 2006 года мы лечили нескольких больных с глиомами только рецидивными иммунотерапиями. И где-то около 20% таких больных мы излечили! У меня есть пациент, который поступил с анапластической астроцитомой в 2006 году, с третьим рецидивом после двух лучевых терапий и так далее. Ему было лет четырнадцать. Мы начали химиотерапию, ему стало совсем плохо, и мы перевели его на иммунотерапию — так, поддержать просто. Думали, что уже все…

Иммунотерапия — это дендритная вакцина, плюс аллогенные клетки от донора, которые вводятся в спинномозговой канал. Этот парень вышел у нас в полную ремиссию! Это была фантастика. Он стал ходить и так далее. Мы продолжали эту терапию два года. Потом отменили. Через год эта опухоль выросла у него опять — в том же месте. Мы отправили его в институт Бурденко, они частично удалили опухоль, мы сделали из нее новую дендритную вакцину, поменяли донора для аллогенных клеток, провели еще одну двухлетнюю программу иммунотерапии — и вот месяц назад он приезжал на очередной контроль. Парень окончил институт, занимается бизнесом, у него нет признаков прогрессирования заболевания. Все это задокументировано, у нас есть еще несколько таких больных, и мы теперь точно знаем, что в каких-то случаях вот такая иммунотерапия может работать.
— Вы посещаете международные конгрессы трансплантологов. О чем там говорят? Какие новации в этой области?
— Ну, безусловно, на волне сейчас технологии с манипулированием иммунными клетками — CAR-T-терапия, цитоксические лимфоциты, генетические модификации клеток… Вот это все. Но, я думаю, практически 95% наших врачей не понимают, что делают эти люди. Это совершенно другой склад. Мы специализируемся на более примитивных методах в своей клинике. Просто потому, что для этих технологий и их использования надо исторически иметь принципиально другую структуру организации здравоохранения.
Я помню: 1991 год, я приехал в клинику в Лос-Анджелесе. Большой госпиталь, 350 коек. Красивый, хороший. А рядом — 16-этажная башня, и это Research Tower — место, где проводятся все исследования. И она не в 1991 году была построена! Люди понимали, что именно здесь, в этой башне, а не в госпитале, происходит настоящий прогресс медицины. Туда вкладываются миллионы и миллионы долларов. А у нас научные сотрудники все уже переведены на полставки. Потому что мы должны выполнять в онкоцентре указы президента… Конечно, у нас тоже, наверное, построят здание и оборудование закупят. Но научить всему этому людей — на это уйдут десятилетия…

Кстати сказать, американцы тоже не смогли бы далеко продвинуться в этой области без китайцев. Колоссальное количество китайцев сейчас приезжают туда, учатся, работают в эксперименте, в лабораториях. Мой приятель, который сейчас возглавляет отделение клиники в Хьюстоне, начинал свою карьеру в США в 1991–1992 году. Он говорит, что если бы переехал в Америку сейчас, то, безусловно, он бы никуда не пробился. Потому что везде тебя вытесняют молодые китайцы — у них фантастическая работоспособность, они готовы пахать по 16 часов в лабораториях. Короче говоря, весь базовый экспериментальный уровень исследований в Америке делают китайцы. Они реально двигают науку.
— Поговорим немного о проблеме российского регистра доноров костного мозга. Что вы думаете об идее такого регистра?
— Я знаю, что идея регистра зародилась достаточно давно. Знаю, что сейчас их существует несколько. И это однозначно нужная вещь. Может быть, для нашей области, для детской онкологии, как я уже говорил, это вещь менее нужная, но в трансплантации нуждаются и другие пациенты, взрослые. У меня нет в этом плане никаких возражений и сомнений. Это должно быть.
И это важно не только с медицинской точки зрения, это еще и очень важный социальный, образовательный момент. Когда люди начинают понимать: другим людям тоже надо помогать. И когда в американском, в немецком регистрах миллионы людей готовы быть донорами, это говорит в какой-то степени о зрелости общества.
— Почему, как вам кажется, в России с трудом удается привлекать потенциальных доноров? Очевидно, что в области рекрутинга у нас пока еще непроходимая темень. Очень много усилий приходится тратить на то, чтобы хотя бы объяснить людям суть проблемы. Что с нами не так?
— Видимо, какие-то особенности в нашем обществе. Как это говорится? «70% россиян не имеют загранпаспорта. Из 30% россиян, которые имеют загранпаспорт, 80% ездят в Турцию на олл-инклюзив». То есть к представлениям о нормальных (с общемировой точки зрения) ценностях мы не приобщены. А те, кто приобщен, они в российском регистре не нуждаются. Они найдут себе донора в любом другом регистре мира. Я думаю, что у нас проблема регистра заключается не только в явной нехватке информации. У нас, видимо, существует отказ от какой-либо информации. Даже пенсионная реформа не сильно возбудила людей, а тут какой-то регистр доноров костного мозга…
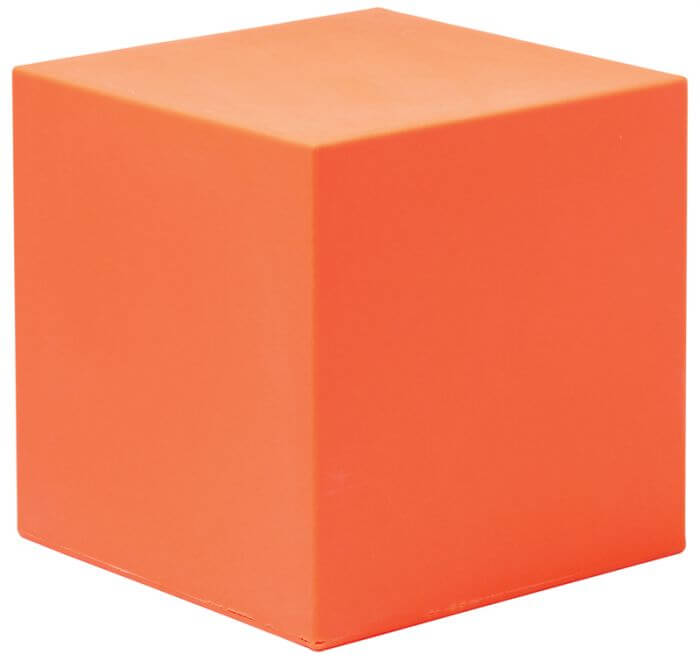
Есть еще другая сторона вопроса. Вот по радио сообщают, что такому-то больному нужна кровь. Человек едет на машине, слышит: кому-то нужна помощь. Он искренне, бескорыстно развернулся, поехал в клинику, чтобы сдать кровь, а ему говорят: «Фиг тебе, а не кровь! Приезжай завтра со справкой об отсутствии судимости». Мы же своеобразно этот вопрос воспринимаем. Например, в Германии человек с улицы приходит сдавать тромбоциты. Они не проверяют всю его историю, они сразу берут у него тромбоциты. А потом, если что-то не так, они просто образцы эти выкидывают. Но сказать человеку, который приехал не за 5 тысяч рублей, не за паек и два отгула, а по долгу совести сдать тромбоциты — сказать ему: «Принеси-ка, друг, справку от психиатра, от того, от этого» — такого там просто не может быть! Берут тромбоциты, а потом уже выясняют, что и как.
— Но ведь теряются очень большие деньги при этом.
— Да, теряются. Зато они получают абсолютно другое общество, другое отношение к людям и отношение самих людей к этому процессу. А если человека, который пришел сдавать кровь, вот так завернули, он второй раз может и не прийти.
— Поговорим о цифрах. Как выглядит ситуация с трансплантацией костного мозга в цифрах?
— По моим данным, во всем Евросоюзе делают где-то 40 тысяч трансплантаций в год. Детей из них только две-три тысячи. Как обстоят дела в России, трудно сказать. Мы в РОНЦе делаем в районе 50 трансплантаций в год, это все дети. Я знаю, что это за больные, знаю, сколько нам нужно после этого с ними возиться, в течение какого времени. Поэтому когда люди говорят: «Мы сделали 200 трансплантаций в год», — я не понимаю, как это они могут сделать. Как? Сделать трансплантацию — это, наверное, 20% от всех расходов, которые пациенту предстоит понести. А из какого это все источника финансируется? Скажем, нам очень сильно помогают благотворительные фонды, но даже при этом больше чем 50 трансплантаций в год мы сделать просто не можем. Там все упирается в абсолютно несоизмеримые расходы: какие-то иммуноглобулины, постоянные исследования в течение длительного времени…
Наши трансплантологи вообще не любят говорить об отдаленных последствиях трансплантаций, особенно аллогенной — они говорят только о количестве сделанных и о пятилетнем безрецидивном течении. Но я еще и член Children Oncology Group — есть такая закрытая американская организация, которая обсуждает вопросы отдаленных последствий, они прослеживают своих детей на протяжении 20–30 лет. Так вот я знаю, что там катастрофические проблемы. Даже без учета трансплантаций мы видим в перспективе вторичные опухоли, расстройства ЖКТ, последствия лучевой терапии (если она была), кардиопатии…
И все эти исследования кем-то должны финансироваться. Фармакологические компании вообще не заинтересованы отслеживать последствия своих препаратов. А это очень серьезная вещь…
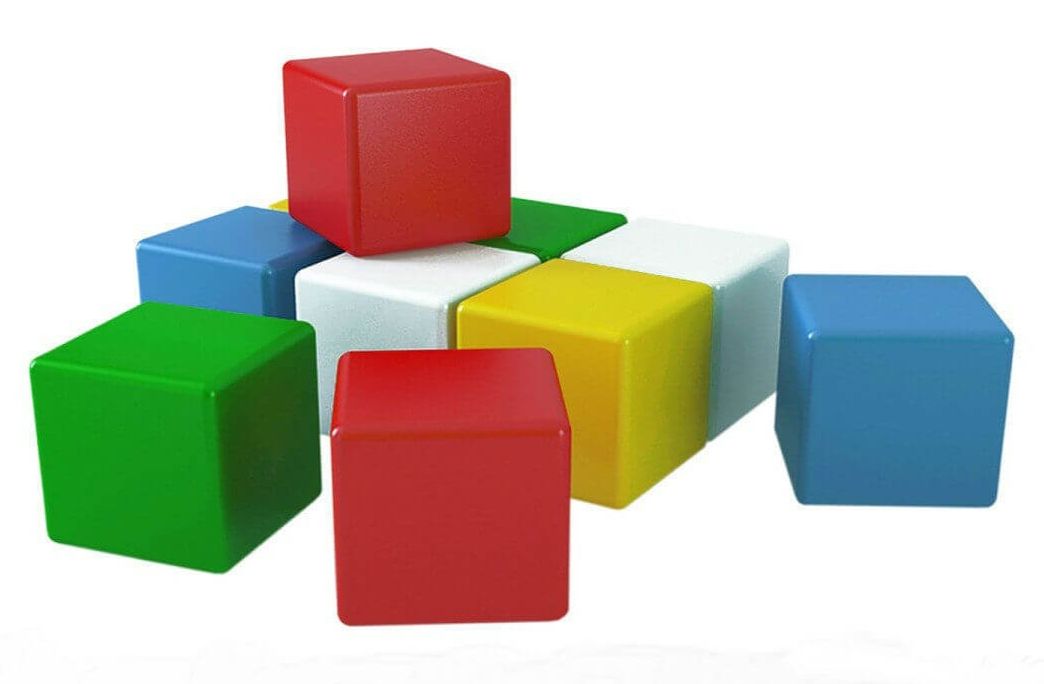
— Вот вы сказали, что делаете 50 трансплантаций в год. А какова их реальная потребность в России?
— Все опять же заключается в идеологии. Мы не трансплантационный центр, у нас отделение трансплантации. Мы обеспечиваем, как сейчас принято говорить, этим методом лечения всех пациентов, кто в этом нуждается. То есть больных с лимфобластным и миелобластным лейкозами, с опухолями ЦНС, с нейробластомами. Мы говорим об очень узком ареале. И когда я слышу, что по России требуется 800 трансплантаций или 1000 трансплантаций — я не знаю, как этому верить. Понимаете? Когда президент НМИЦ им. Димы Рогачева Александр Румянцев говорит, что 93% больных с острым лимфобластным лейкозом у них выздоравливают, я так понимаю, что там никому не нужна трансплантация. И тут же он сообщает, что требуется 800–900 трансплантаций… а кому? Всех излечили, а трансплантаций с каждым днем надо все больше!
— С учетом ситуации в вашем онкоцентре мы, конечно, не избежим вопроса о ваших дальнейших творческих планах. Что вы теперь намерены делать?
— Мои планы очень простые. Я собираюсь уйти в отпуск. Если к моменту его окончания ситуация в РОНЦе останется на том же уровне, то я сюда не вернусь. Отношения с администрацией вынуждают меня не работать, а писать какие-то объяснительные. Каждый раз, когда меня вызывают к начальству, я должен брать с собой юриста… Зачем мне все это? Конечно, в РОНЦе бывало разное начальство. И проблемы разные бывали. Но по крайней мере здесь всегда было приличное и уважительное отношение к профессионалам, к врачам. С новой администрацией я понимаю: я не такой молодой, чтобы ждать, когда я их переживу. Лучше уж буду ездить с вашей экспедицией по стране, рассказывать про донорство. Больше пользы, чем от скандалов.
Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.
Ваша,
Кровь5