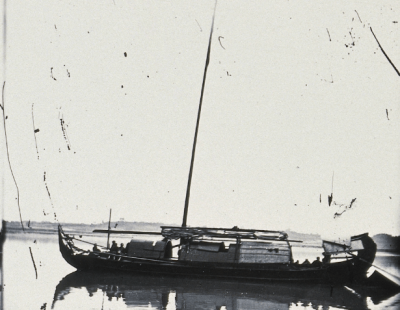Алексей Яблоков, Сергей Мостовщиков
В поисках нового человека
интервью с Теодором Шаниным

Мир меняется — по крайней мере, хочется в это верить. Если это так, то с ним вместе должен бы меняться и человек. Вчера он дрался и сквернословил, воевал или воровал, чтобы защитить себя от мира, сегодня он делает селфи и раздает их в соцсетях, становится донором костного мозга и органов, меняет пол, сообщает миру мельчайшие подробности своей интимной жизни. Мы имеем дело с каким-то другим человеком — не тем, что вчера. Мы сами строим планы на будущее, но его нет, ведь завтра будут жить совсем другие люди. Это правда? Это ужасно? Это хорошо? Это нормально?
Обсудить эти вопросы мы решили с профессором социологии Манчестерского университета, создателем и президентом Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук — Теодором Шаниным.
— Поговорим о норме. Нам кажется, что жертвование собой вообще и донорство в частности во многом связаны именно с понятием нормы. Но что следует понимать как норму? И если она существует, то что она такое?
— Несомненно, она существует. Также нет сомнения, что норма в большинстве случаев определяет поведение людей. Хотя часто приходится слышать, что это неправда, что каждый делает, что хочет, и вообще все, так сказать, определяется человеческим организмом. Но это не так. И это очень легко доказать, просто присмотревшись к истории человечества и роли индивидуумов в ней.
— Норму кто-то устанавливает или она формируется сама?
— Конечно, к ее установлению прикладываются усилия. Начнем с того, что большинство религий представляют собой различные нормативные системы — и преподносят эти системы как реальную суть вещей. А поскольку религия, несмотря на все старания, все еще не исчезла ни в одной стране мира, все эти нормы оказывают существенное влияние на жизнь.
— И насколько же велика роль нормы в жизни общества? Или в жизни разных сообществ, государств?
—Тут, конечно, все зависит от подхода. Но, скажем, самая влиятельная социология середины XX века — школа Парсонса, которая пришла из Америки и заполонила весь мир, — она просто определяет общество как систему норм. И все! То есть все остальное вторично. По крайней мере, когда я учился, меня учили так. Все человеческое определяется системой норм. Вне человеческих отношений может происходить что угодно. А в их рамках — только норма. С этим даже никто особенно не спорит, потому что все согласны.
— Разве не наоборот? Не человеческое поведение влияет на установление норм?
— В глазах социологов это решительно не так. Потому что в этом случае само общество не существовало бы. И понятие «социология» начало бы распадаться, если бы мы приняли тот факт, что нормы определяются поведением.

— А нормы поддаются законам эволюции?
— Несомненно!
— И как они меняются? Что влияет на их развитие?
— Это опять-таки зависит от школы мышления. Возьмем хотя бы марксизм (о нем сейчас все-таки имеют представление, потому что все его потребляют). Так вот, марксизм — это экономическая система, которая в значительной мере определяет систему норм. А так как экономическая система меняется, то и нормативная тоже развивается в ногу с ней. Но это, конечно, не вопрос конкретно марксизма. Это вопрос практически каждой школы систематического мышления: как меняются нормы и почему. Кстати, некоторые религии пытаются заявить, что они непреложны и не меняются. Так как все нормы там определены изначально Богом или пророком, наместником Бога, они не могут меняться. И не должны. Конечно, что-то вокруг меняется, но в религиях всегда существуют способы это объяснить.
— Странно, обычно религия как раз показывает свою революционность и попытку изменить нормы — в пользу личности, например.
— Некоторые религии так делают. Но большинство религий утверждают стабильность и неизменность. Потому что в момент, когда ты принимаешь существование Бога, эта стабильность там очень важна. Ты не можешь влиять на Бога. Разве что ты древний грек: у них с этим было попроще.
— Кстати, о древних греках. У них одни нормы. У древних египтян — другие. В первобытном обществе — третьи. С чем связана эволюция нормы — с появлением новых орудий труда, с новыми знаниями, с климатом?
— Конечно, действительность влияет на развитие норм. Вот не было заводов — а потом появились. Не было атомной бомбы — появилась атомная бомба. Не было железной дороги — появилась железная дорога. Но, безусловно, есть отдельная динамика и в самом мышлении. Развитие нормативности — часть этой динамики. Как развивается мышление, мы пока не до конца понимаем. Но я лично считаю, мышление частично вообще не принадлежит человеку. Вот я буквально сегодня перечитывал книгу Юрия Лотмана «Внутри мыслящих миров». Я согласен с тем, что мышление — это действительно такой мир, в котором есть своя организация, свои понятия. И это не просто отражение других миров, других людей вокруг. Это что-то другое.
— Как меняются нормы, так сказать, телесности? Продолжительность жизни, отношение к телу, к здоровью…
— Скорее, меняется отношение к человечности. Поскольку и люди меняются, и общество меняется. Как именно меняются эти нормы, можно определить без особого труда: все зависит от того, насколько личное превосходит коллективное в общественном сознании. До сих пор есть общества, в которых коллективизм практически абсолютен. И есть общества, в которых индивидуализация абсолютна и обязательна.
— Это имеет отношение именно к телесности?
— Да, несомненно. Это один из способов понять самого себя.

— Сейчас идут дискуссии о допустимости или недопустимости чужеродных вторжений в наше тело. Искусственные органы, импланты, трансплантации… В каких-то обществах, если ты заранее не подписал отказ, ты по умолчанию донор органов после смерти. Спорят, можно ли выращивать органы в каких-то принтерах и в искусственных средах… То есть у всей этой новой телесности какое-то болезненное будущее. А вы что думаете по этому поводу? Что-то серьезное происходит или это обычная суета?
— Я думаю, в значительной степени суета. Пока есть люди, которые профессионально изучают новое мышление, они сами же его профессионально и создают. Отчасти потому, что это их профессия, отчасти потому, что они без этого не могут жить. Это определяет их статус в обществе. Скажем, для меня сейчас огромный интерес представляет социология знания. Это для меня центральный элемент социологии. То есть — как меняется наш метод познания? Как мы подходим к разным познаниям? В 1970-е годы вышла книжка, сборник работ, который я собирал, под названием «Правила игры», The Rules of the Game. Потому что то, чем занимаются ученые, на мой взгляд, — игра. То есть ясно, что наука — это нечто большее, но все-таки там есть игровой элемент, и для меня он особенно интересен как для социолога. Этот элемент — важная часть мышления.
— Кстати, норма позволяет играть в игры? Или это оружие против игр?
— Мои нормы позволяют, безусловно.
— Да, но вы говорили, что нормы — это то, из чего состоит общество. Разве тут может быть индивидуалистский поход?
— Безусловно, это понятие общественное. Но я как член общества также имею право на выбор. Если бы у меня не было такого права…
— К черту такое общество.
— Общество — это все что хочешь, включая тюрьму для тех, кто думает по-другому. Общество умеет пользоваться палкой. Тот, кто видел Советский Союз и гитлеровскую Германию, а теперь видит радикальные националистические государства, хорошо это знает. Общество — это еще и принцип «Делай, а не будешь делать — мы тебе покажем!». Тем не менее, в обществе есть и те, кто сопротивляются, отбиваются и не позволяют обществу диктовать законы мышления и поведения. Это важно и ценно. Без таких людей исчезла бы вся эта проблематика. Просто центральный комитет партии или диктатор указывал бы, что делать.
— А что такое, с вашей точки зрения, социальная ответственность? Действительно существует такое понятие или это какое-то недавнее изобретение?
— Нет, оно не недавнее. Оно появилось в Европе в период почти что стопроцентного контроля католической религией проблем нормативности и других проблем. Но тогда социальная ответственность означала, что ты попросту уходишь от личной ответственности по отношению к религиозному мышлению, ибо оно и есть истинно. А в наше время, так как в мире нет единой нормативной системы, социальная ответственность в большей степени зависит от того, какую систему норм ты признаешь. Скажем, я лично себя считаю гуманистом. Для меня довольно важно держаться соответствующих принципов. И я буду их придерживаться, пока жив. Это и есть моя социальная ответственность.

— Как можно определить, что человек — социально ответственный? И вообще, должен ли он нести какую-то социальную ответственность?
— Тут все зависит от того, какую ты принимаешь систему норм и ценностей и насколько другие люди, по твоему разумению, должны действовать в ее рамках.
— Вы ведь создали университет, который готовит социальных работников? В каком-то смысле эти люди тоже несут социальную ответственность.
— Поправка: мой университет готовит не только социальных работников. Однако социальная работа — важное явление. Я и сам закончил школу социальной работы. Так что у меня довольно четкий взгляд на это дело.
Между прочим, даже смешно вспоминать, как я туда попал. Когда я вернулся в Израиль из армии (война кончилась, и меня освободили), мне и всем моим товарищам по оружию сказали: у вас есть право на университетскую стипендию. Видимо, эту систему придумывали очень деловые люди, потому что они решили так: срок обучения, который оплачивает эта стипендия, соответствует сроку, проведенному на фронте. Чем дольше воевал — тем выше стипендия. Таким образом, у меня выходило чуть больше года. Я приехал туда, где проходила регистрация на разные факультеты. Там, помню, была длинная стена, а на ней — плакаты с описаниями факультетских программ. И они мне все не понравились. Я тогда не понял, что это были программы только первого года обучения. Я подумал, это все, чему они обучают. И рассердился: «Ей-богу, что это такое? Я не ребенок! Что они, насмехаются?» Впрочем, одно из этих объявлений меня заинтересовало — там описывалась как раз школа социальной работы. И все выглядело довольно серьезно, потому что тогда социальной работе учились полтора года — почти вся их программа оказалась передо мной на виду. Ну и я решил, что да, по-видимому, это хорошо.
Правда, я не знал, что такое социальная работа. Никогда даже не слышал такого понятия. В Восточной Европе, где я в то время жил, этого еще не было. Но в конце концов я стал социальным работником и остался в профессии на целых десять лет. И только после этого двинулся дальше.
— Что вы делали как социальный работник?
— Социальная работа — это особая профессия: то, что ты делаешь, во многом зависит от тебя. От твоего характера. Мне это как раз очень подходило. Я начал работу с «азув»… Есть такое понятие на иврите — «азув». Оно пришло в Израиль из Германии, вместе с немецкими евреями. Это слово означает молодежь, которую еще не судили за преступления, но у которых есть к этому, так сказать, все данные.
— Трудные подростки?
— Да, да, трудные. Интересное словосочетание, кстати, — «трудный человек». А на иврите «азув» означает «оставленные», предоставленные сами себе.
— И вы как социальный работник должны были привести их в норму?
— О нет. В норму их приводила полиция: сажала в тюрьму, где они слушались приказов. А мы как раз занимались тем, чтобы они не угодили в тюрьму. В этом была вся суть нашей социальной работы. Потом я работал и в probation — это почти то же самое, но на ступеньку выше: там работа ведется с теми, кого уже осудили, причем по английским законам, где мера наказания не определяется автоматически. В этом, кстати, фундаментальное различие между советским и английским уголовным правом. Потому что, когда тебя судят в СССР и признают виновным, ты просто открываешь книгу и смотришь: за это и за это — семь лет. За это и это — полтора года. Английские законы действуют не так. После того, как человека признают виновным, у суда есть определенная доля свободы. И тут как раз может выступить probation officer, социальный работник. Он имеет особые права и в иных случаях советует судье, что делать. Например, вот этого мальчишку или эту девчонку в тюрьму не сажать, потому что это не улучшит, а только ухудшит их положение. И судья может прислушаться к совету соцработника (а может и не прислушаться). Вот этим я тоже занимался.
Потом я работал в туберкулезной больнице, где пациенты могут оставаться и год, и даже два года. И в реабилитационном центре, где задача соцработника — вернуть человека, выпавшего из рамок нормы. Вернуть его не только в эти рамки, но и в нормальные условия.
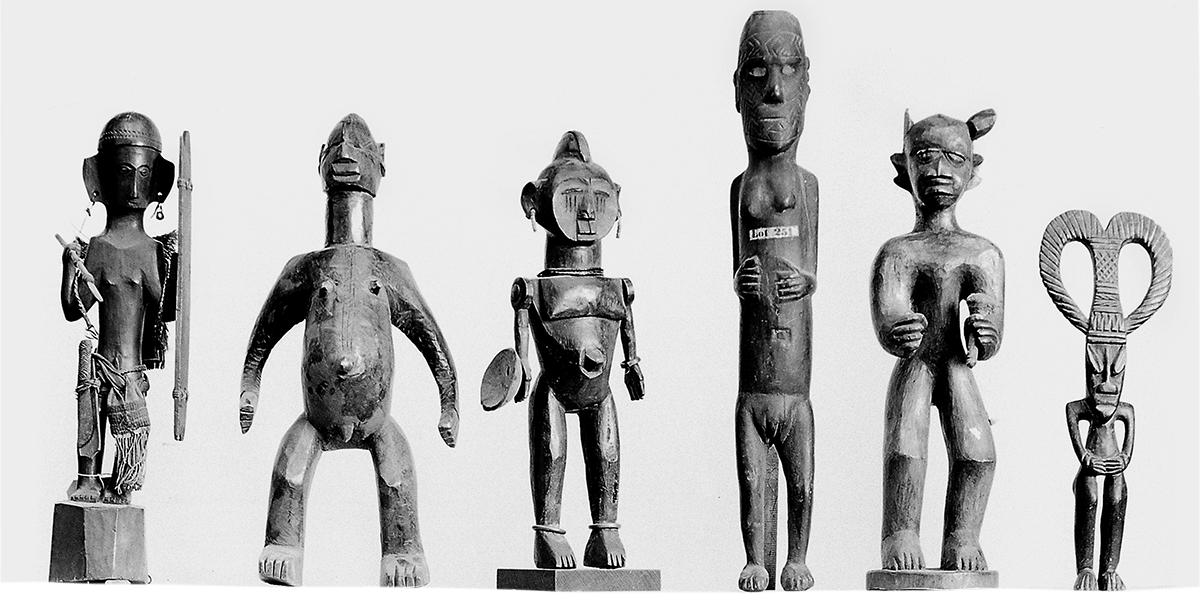
— Вы не думали о таком понятии, как «человек будущего»? Каким он может быть, с вашей точки зрения?
— По правде говоря, не думал. И даже не думаю, что стоит. Я думаю, социальный работник должен думать о прошлом — чему мы научились. А о будущем думают пророки. Я пророком себя никогда не чувствовал. Я просто знаю, чего я хочу.
— Чего же вы хотите?
— Ну, скажем, я хочу такого социализма, которого не было в Советском Союзе. Я — социалист, если спросить меня о моих идейных взглядах, предпочтениях и нормах. Нормативный социалист, если хотите. И я готов расплачиваться за свой социализм. В отличие от, так сказать, «салонных социалистов», которых очень много и которые всегда готовы поболтать на эту тему. Поскольку это не влечет за собой никакой ответственности, они и болтают. Но если относиться к этому серьезно, если тебя обязывает твоя система норм и ценностей, тогда все происходит иначе.
— Каков ваш социализм?
— Прежде всего, мой социализм не начинается с тюрем. И это само по себе чего-то стоит. Я хочу видеть общество, в котором свобода ограничивается только тем, что ты не берешь ее за счет другого человека. Должен признать, что новое поколение не пошло по этому пути. Есть ухудшения. Но я придерживаюсь своего, по мере возможности. Бог, или кто-то еще, кто живет там, наверху, дал мне возможность жить, работать и получать зарплату за то, что я работаю с молодежью. Это частично мой выбор, и это нормативная система, внутри которой я могу себе разрешить куда больше, чем государственный чиновник. Он не может отойти от воли своего начальника. Я могу. Я мог это всю жизнь и должен заметить, что с той минуты, когда я стал взрослым, я жил так, как хотел. Когда меня кто-то ограничивал, я сидел в тюрьме. Но когда я мог вырываться, я вырывался и жил жизнью свободного человека. Как-то так. Таков мой социализм. Если положить его на карту мира, больше всего мне подошла бы Норвегия.
— Если бы вы были донором своей свободы, как бы вы разделили ее с людьми? Написали книгу? Организовали кружок свободных людей?
— Я думаю, что я уже сделал немножко больше. Я организовал университет, экстраординарную организацию, систему, в которой чувствуют себя свободными 400–500 человек. Я верю в то, что индивидуально вырваться на свободу нельзя. Надо организовать системы, структуры, которые занимаются этим делом. Или стать членом такой системы. Но лучше создать ее из ничего, что мне, слава богу, удавалось несколько раз в жизни.
Недавно мои студенты задали мне вопрос: чем я определяю свое мышление? Я ответил: главное — не бояться. Потому что негативный контроль над нами — это почти всегда вопрос нашего страха. Мы боимся осуждения больше, чем тюрьмы. Даже в моей свободолюбивой Англии люди постоянно думают: а что соседи скажут?! И это очень важно, это не случайное, а системное явление.
— Значит ли это, что нормы во многом создаются благодаря нашему страху?
— Да, вне всяких сомнений. Центральный, хоть и не единственный элемент действия нормативной системы, — страх. Иначе она не работает.
— Но одновременно она же и защищает от каких-то страхов?
— Да, она и создается на страхе, и защищает. А есть еще такое понятие «жить спокойно»: никто тебя не трогает, ты никого не трогаешь и все прекрасно. Потом ты выходишь на улицу, а там родители бьют ребенка. И ты шагаешь мимо, потому что ты — нормальный человек, а у ребенка есть родители и, быть может, они правы, и так далее… И вообще это не твое дело, ты взрослый гражданин…
— Как же тут себя вести с точки зрения нормы и социальной ответственности?
— Лично мне ясно как: защитить ребенка. Это мои нормы: нельзя бить детей и уж точно нельзя издеваться над ними. Меня, между прочим, били в детстве. Тогда это была норма, принятая в моем обществе. Мои родители не были плохими людьми, они были очень добрыми, и они старались во мне воспитать доброту и всякое такое прочее.
Вспомнил вдруг дурацкую историю. Когда мне было лет пять, меня послали вместе с моей бонной — у меня была бонна, я рос в буржуазной семье! — послали отнести ботинки какой-то бедной семье. Это было в Вильно, там зимой холодно, и те дети не могли ходить в школу босиком. И вот мы понесли с бонной ботинки. Годами позже я спросил у мамы, зачем меня-то послали с этими ботинками. И она сказала: «Мы боялись. Раз ты из обеспеченной семьи, ты в конце концов начнешь думать, что весь этот мир принадлежит тебе». Тоже метод воспитания.

Теодор Шанин (р. 1930)
Профессор социологии, доктор философии. Родился в Вильно, после присоединения польских территорий к СССР был сослан вместе с матерью в Сибирь. После Второй мировой войны вернулся в Европу, а в 1948 году отправился в Палестину — воевать за создание государства Израиль. Впоследствии учился в Иерусалиме, преподавал социологию в Англии, был деканом факультета социологии в Манчестерском университете. В начале 1990-х создал в Англии центры по переподготовке советских социологов, а в 1995 году организовал в Москве Высшую школу социальных и экономических наук, стал ее ректором (с 2007 года — президентом). Автор многочисленных трудов по исторической социологии, экономике, философии и крестьяноведению.
Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.
Ваша,
Кровь5