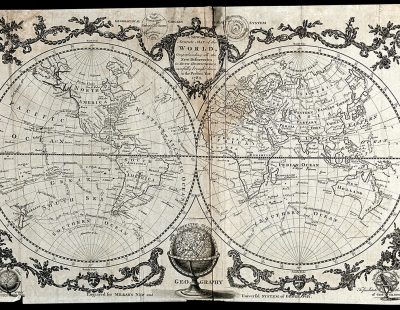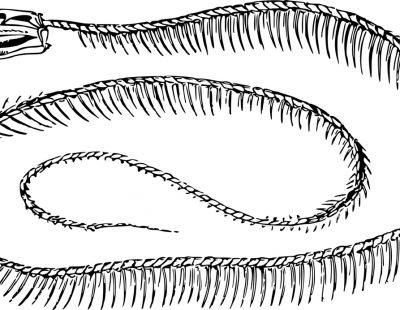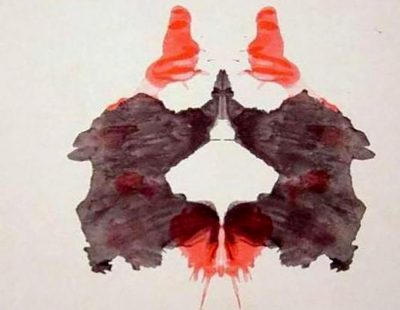Алексей Яблоков, Сергей Мостовщиков
Присвоение мира
Людмила Петрановская о психологии детства


Говорят, главная проблема нынешнего века — тревожность. Откуда она? На тревожность все чаще жалуются родители. Когда-то в семьях рождалось слишком много детей, а тревожности было меньше: за всех беспокоиться невозможно.
Сейчас детей стало меньше, и что теперь с ними делать, как развивать, кому доверить этот драгоценный актив — вот сегодняшние нерешаемые проблемы.
Как это понимать, как с этим поступать, где искать выход из этой ситуации, проекту Кровь5 рассказывает известный психолог и педагог, специалист по семейным отношениям, создатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская.
— Для начала хотелось бы поговорить о том, что такое детство в принципе. Есть у этого слова более или менее научное определение?
— Для нашего вида детство — это период высокой адаптивности, период обучения. Примитивные животные от рождения обладают только конкретным набором программ, они действуют как биороботы. Если ситуация, в которой они оказались, не соответствует установленной программе, скорее всего, зверушка погибнет. Поэтому животные компенсируют эти печальные обстоятельства обилием потомства. Наметал икры — хоть кто-нибудь, один из десяти, да уцелеет.
Чем сложнее вид, тем более дорогое у него потомство. Его мало, и важно, чтобы все оно выживало. Для этого нужно уметь адаптироваться к обстоятельствам: мало ли — похолодает, потеплеет, прилив, отлив… В этом смысле чем длиннее детство, тем дольше период адаптации.
Английский психиатр Джон Боулби, который был основателем теории привязанности, говорил, что именно за счет своей адаптивности человечество такое вездесущее. Ребенок может родиться в очень разных условиях, но адаптируется он везде: в Гренландии так в Гренландии, в Сахаре так в Сахаре, в Нью-Йорке так в Нью-Йорке. Где родился, там и научится жить.
Чем длиннее период детства, тем больше интеллектуальных возможностей у данного вида, тем больше возможностей обучения, передачи информации. Обычно у самых умных животных, высших млекопитающих, — самое длинное детство.
— А это, простите, хорошо или плохо?
— У этого, разумеется, есть теневая сторона. Ребенок принимает как норму все что угодно. Где бы он ни оказался, как бы странно с ним ни обращались, его адаптивность такова, что он все принимает как данность и адаптируется. Собственно, тот же Боулби говорил, что привязанность формируется в любых условиях. Она может быть странной с внешней точки зрения, но ребенок привыкает и привязывается, например, к человеку, который его бьет, который плохо к нему относится. И у ребенка нет возможности посмотреть на это со стороны и сказать: «Ты чего так себя ведешь?!» Он просто считает, что так и должно быть. Он не может сохранять критичность по отношению к ситуации, поэтому, когда ему приходится «отсоединяться», это становится большой проблемой, требует огромной психологической работы.
— В восприятии детства человечеством произошли ли какие-то значительные перемены за последние, скажем, сто лет?
— Безусловно. Долгие годы человечество существовало подобно низшим животным, которые решают проблемы с выживаемостью потомства за счет его количества. То есть рожали сколько могли — и из детей выживала треть. Однако на протяжении очень короткого по историческим меркам времени случилось вот что: с одной стороны, за счет медицины, санитарии, прививок и родовспоможения очень снизилась детская смертность, а с другой — за счет переезда в города снизилось количество детей в семьях.
Эти два процесса соединились во времени, и ребенок в результате, как я это называю, из венчурного проекта стал инвестиционным. Еще в 30-е годы XX века Корчак писал, что ребенок — как озимый посев: то ли взойдет, то ли нет. А сейчас ребенок не то что всходит, он вообще стал фундаментом, основной инвестицией. На протяжении XX века, в основном в европейской части мира, в «золотом миллиарде», произошел резкий рост цены ребенка. Грандиозный рост.

— В чем конкретно это выразилось?
— Ну, скажем, появилась индустрия сугубо детских товаров, появился детский маркетинг, в сущности, родилась вся детская экономика. Отдельная детская литература появилась, система детского досуга, чего раньше в принципе не было. То есть даже в голову никому не приходило, что для детей должен быть отдельный многоэтажный центр развлечений! Все это появлялось постепенно, с ростом урбанизации, с сокращением количества детей в семьях и повышением выживаемости. Все это сопровождалось философскими и этическими изменениями. В Средние века, допустим, было принято считать, что ребенка надо держать в ежовых рукавицах как плод греховного зачатия, что он маленький неразумный дурачок и неизвестно, что из него вырастет. А в XX веке появляется идея ребенка как судьи мира. Ребенок — чистое существо. Незашоренное, неиспорченное, которое приходит и глаголет истину. Собственно, «Маленький принц» Сент-Экзюпери был как бы манифестом этой идеи, потом она много у кого встречалась — у того же Сэлинджера, например. Мол, ребенок нам всем все покажет. Расскажет, как правильно. В то же время происходила ведь революция и в психотерапии — Фрейд и прочие. Выяснилось, что от детства многое зависит, начали проявлять внимание к эмоциональной стороне жизни ребенка… Никого же раньше не беспокоила эмоциональная жизнь детей: какая у них может быть эмоциональная жизнь? Слушается — молодец, не слушается — розгами его. Что он там переживает — это все лишнее. А тут появились книги для родителей, образовательные программы… Появились теории воспитания. Короче говоря, наступило время грандиозного пересмотра идей.
— В России у всего этого кипения мысли есть или была какая-то своя специфика?
— Мы в этом смысле часть общемирового процесса — правда, быть может, с небольшим сдвигом. У нас есть некоторые особенности, связанные с жестокой историей, с Великой Отечественной войной, и во многих семьях это до сих пор чувствуется. Имеется в виду идея о том, чтобы дети в принципе выжили. Хотя бы не голодали. Эта идея была укоренена в старшем, послевоенном поколении и имела довольно сильное влияние на их собственных детей. Естественно, когда в основе воспитания лежит идея «чтобы дети хотя бы выжили», то внимания к их эмоциональной жизни, конечно, не то чтобы много. Поколение российских родителей, которым сейчас 30–35 лет, уже это отрабатывает. Они как раз очень переживают из-за того, что у них там с детьми происходит, стараются уделять много внимания их эмоциям — может быть, даже чересчур много. То есть они ускоренными темпами нагоняют то, что уже давно развивается в других странах.
— А в сложившейся обстановке какие лично вы видите плюсы, какие минусы?
— По правде говоря, я об этом так не рассуждаю, просто имеет место некий процесс. У него есть светлые и темные стороны, как у всякого явления. То есть с одной стороны, с детьми действительно гораздо лучше стали обращаться, даже в российской реальности. Скажем, уходят физические наказания, которые были просто почти поголовной нормой 30 лет назад. Сейчас уже большинство людей, родителей утверждают, что они против этого, а если все же срываются и шлепают детей, то тут же жалеют об этом и даже обращаются за помощью, просят помочь им перестать. То есть изменилась норма.
Если в послевоенные годы норма была выпороть ребенка за разбитое стекло или принесенную двойку, то сейчас это уже отнюдь не так. Люди шлепают детей иногда, сорвавшись или от бессилия, но большинство не считает, что это так и надо, особенно среди образованного городского населения. Хотя, конечно, есть бывшие военные, но это уже другое, социальное…
Очень сильно изменилось отношение к детям в учреждениях, в школах, в детских садах. Раньше нормой считались весьма жестокие практики — хамство, оскорбления, насильственные кормления, унизительные наказания. А сейчас поди попробуй. Родители начали заступаться за своих детей. Да и система начала заступаться. Хотя раньше родители вместе с системой вступали в альянс против ребенка. Если раньше вызов родителей в школу означал, что ребенку предстоит веселый вечер, то сейчас — наоборот.
— Сейчас директора школы вызывают к родителям, это правда.
— Кроме того, обратите внимание, какая суета творится вокруг развития детей, какое внимание оказывается их знаниям, умениям, сколько всяких теорий насчет правильного одевания, кормления, воспитания и тому подобного. С одной стороны, конечно, хорошо, что это все есть, с другой — родителей такое изобилие, безусловно, нервирует, потому что оно же рекламируется со всех сторон. Отовсюду звучит: «Как, у вашего ребенка этого до сих пор нет?!»

— Ну хорошо. Дети стали судьями мира, получили в руки специальный, прежде не виданный статус. Почему они при этом потеряли самостоятельность? Трудно представить ситуацию, когда в городе девятилетнего ребенка сейчас куда-нибудь отпускают одного.
— Это все связано. Цена ребенка выросла, и раз это так, мы не можем ими раскидываться. Мы не можем позволить себе, чтобы с ними что-то случилось. Поэтому надо все контролировать, надо гарантировать, что точно ничего не случится. Ни на какие уступки по этому поводу ни общество, ни родители идти не согласны. Выросла цена, выросли риски.
Да и потом, «судья мира» — это философские, романтические идеи, прямо скажем, литературный образ. Имеется в виду ребенок внутри нас, который сохраняет некую первозданную чистоту. Разумеется, у реальных детей нет жизненного опыта, и навешивание на них социальных обязанностей выглядит, пожалуй, жестоким обращением. Хотя это как раз одна из современных тенденций — когда люди очень уж носятся с каждым словом, чувством и мнением ребенка.
— Даже если это метафора, согласитесь, что метафорический судья мира довольно быстро становится диктатором. Во имя ребенка и с именем ребенка сегодня происходят серьезные события: отмена результатов шоу «Голос», запрет на курение в общественных местах и так далее. То есть налицо системные сдвиги, в которых этот метафорический ребенок поставлен в центр картины. Не так ли?
— Естественно, если что-то стало дорогим, оно становится веским аргументом в любых полемиках. В том числе никак не связанных с детьми. Просто аргумент «интересы детей» — это очень хороший аргумент, им грех не воспользоваться и в семейных спорах, и в политических. Зато у этого есть и хорошая сторона: в конце концов, хорошо, что дети не дышат сигаретным дымом, чего уж говорить.
— При все возрастающей «стоимости» детей нет ли угрозы инфляции?
— В каком-то смысле нас не спрашивают, видим ли мы угрозу или не видим. Разве наше мнение как-то влияет на процесс? Процессы идут сами собой. Ясно одно: мы движемся в сторону удлинения детства. Потому что жизнь становится все сложнее. Требований к тому, чтобы адаптироваться, все больше. Соответственно, требуется более длительное детство. Если раньше человек в 14–15 лет был готов функционировать: выйти замуж, выйти на работу и самому о себе заботиться, а в 17 лет даже настрогать детей и заботиться о них, — то сейчас мы понимаем, что нынешний 17-летний человек на это не способен. Поэтому во всем мире мы видим тенденцию к откладыванию возраста совершеннолетия, и она, видимо, продолжится.
— Что вы имеете в виду, говоря, что жизнь становится сложнее?
— Социально сложнее. Появляется куча всяких новых вещей, которые нужно учитывать. Нет простых траекторий, нет простой лыжни, на которую можно один раз встать и поехать. В традиционном обществе жизнь была тяжелая, но простая. Кем ты будешь? «Кузнецом». Почему? «Папа — кузнец». Значит, в пять лет ты возьмешь детский молот, в десять — молот побольше, а в пятнадцать будешь махать им, как отец, и так до конца жизни. И сын твой будет кузнецом. То есть количество принятий решений было мало.
Самая психически тяжелая и энергозатратная деятельность — это принятие решений. А принятие решений в жизни современного человека просто чудовищно по своим масштабам. Это постоянный вызов. Из-за этого мы принимаем кучу решений, не обдумав их как следует, не обладая точной информацией, не взвесив риски и так далее. Это очень сложно — жить в современном мире. Детям требуется больше времени, чтобы разобраться что к чему.
— Так как же они разберутся, когда их из дома боятся выпустить?
— Да, есть такая проблема: детей стараются окружить безопасностью, и поэтому у них просто нет возможности самим порешать какие-то проблемы, столкнуться с каким-то трудностями. Современная ситуация зачастую выглядит так: из квартиры ребенок попадает в подземный гараж, откуда его сразу же везут в нужную точку. Погулять в парке. А потом обратно. В Америке просто нет идеи, что ребенок девяти-одиннадцати лет может самостоятельно выйти из подъезда. Хотя вот в Европе сейчас новые кварталы стараются строить, предусматривая такую возможность — чтобы именно маленький ребенок мог самостоятельно гулять. Там есть какие-то закрытые пространства, куда можно выпустить и совсем маленьких, и более широкие пространства, куда выходят дети пяти-десяти лет самостоятельно, со своим велосипедом, мячом и так далее. Это очень важно: когда у детей есть дворовая жизнь, у них есть возможность для долгой игры, потому что, оставшись один, ребенок может играть гораздо дольше, чем с мамой или с няней. Он свободен, без тотального присмотра взрослых, и в это время может самостоятельно решать кучу маленьких проблем.
— Например?
— Ну как — упал, ударился, чего-то все вместе испугались, пошли все вместе попросили попить… Именно в это время происходит освоение мира — вернее, присвоение мира. Возникает уверенность, что ты в этом мире сообразишь, что делать, — не сам, так с друзьями. Решение маленьких проблем. Как это было в нашем дворовом детстве. Собака прибежала и гавкает — что будем делать? Или — дядька вышел и плащ распахивает. Короче, много проблем, которые дети решали сами в своем детском коллективе. И к подростковому возрасту они были уже довольно «тертые калачи». А сейчас ребенок в двенадцать лет впервые сам выходит из подъезда, и он в шоке от этого всего. Он не знает, чего куда. А ему же хочется выходить, и уже и родителям вроде как неудобно ему не разрешать. А опыта у него нет. Джунгли, в которых он никогда не был.
— Вы сказали, что светлая сторона ситуации заключается в том, что начали учитывать интересы детей. А что это такое — интересы детей?
— Здоровье. Образование. Безопасность. Обычные вещи.
— То есть они от наших с вами интересов кардинально не отличаются?
— В принципе не отличаются, только ребенок не может их обеспечить себе сам. Особенно если это маленький ребенок. Кроме того, у ребенка есть базовая потребность — иметь своего взрослого. Взрослые тоже предпочитают не жить в одиночку, но они могут обойтись без близких людей и не разрушатся от этого. А ребенок без семьи не может, для него это такая же потребность, как еда.
— Взаимоотношения отцов и детей как-то меняются с течением времени? Ситуация накладывает на них отпечаток?
— Мы пока еще не очень это понимаем. Если брать российскую реальность, перед нами сейчас буквально первое поколение родителей, которое растит детей по-другому — не дисциплинируя их, а эмоционально вглядываясь в их жизнь: что они чувствуют, что переживают? Раньше такие родители тоже были, но их были единицы, а сейчас это становится массовым явлением.

Например, намного реже приходится сталкиваться с прямыми конфликтами. То есть вот это «не смей поздно гулять» — «буду поздно гулять». Установочных конфликтов меньше, потому что для них нет оснований там, где меньше дисциплины и жестких рамок. Соответственно меньше ценностных противоречий. Раньше под эти рамки подводили какую-то идеологию, базу. А сейчас родители скорее стесняются детям навязывать идеологию, которая и у них самих-то не всегда есть. Поэтому столкновений гораздо меньше.
Вот в 2014 году в моей практике было очень много жесточайших конфликтов между старшим поколением и их 40-летними детьми. Прямо вплоть до взаимной ненависти, до разрыва отношений. А вот подобных конфликтов между молодежью и 40-летними родителями — я таких примеров не знаю.
— К вопросу о вашей практике. С чем сейчас в большей степени приходится сталкиваться? В чем нерв?
— Родительская тревога. Тревожные родители. Очень много требований к ним, много требований к себе, при этом они не могут действовать так, как действовали их родители, их это не устраивает. Им опять-таки приходится принимать очень много решений там, где раньше можно было действовать автоматически.
— Тревожность родителей как-то лечится?
— Ну что значит «лечится»? Это же не болезнь. С этим можно работать. В тяжелых случаях, может, и медикаментозно. Я, скорее, занимаюсь детско-родительскими отношениями, хотя, конечно у родителей все равно все сводится к собственному опыту, к отношению с их собственными родителями. Часто, когда «наводится порядок» в этом вопросе, выясняется, что у них и с собственными детьми дела идут на лад.
— Хотелось бы поговорить о современном развитии детей. Есть мнение, что сейчас они прямо-таки непомерно нагружены. Сейчас каждый второй ребенок учит пять языков, ходит на четыре вида борьбы и еще на скрипку. Вы как оцениваете этот процесс?
— Это все реально истощает. Причем всех. Пока ребенок маленький, у него особого выбора нет — он ходит куда велят. А как только он догадывается, что можно просто не ходить, он может лечь на диван и не пойти. И потом, мы все сегодня живем в условиях истощения дофаминовой системы. Когда слишком много интересного и приятного. Слишком. Чересчур. И то вроде бы интересно, и это забавно, и это важно, и это полезно. И все это не добывается с помощью орудий труда, а просто вот — завались. Это как история про доступность быстрых углеводов, на которые мы биологически не рассчитаны. Они доступны, поэтому начинается их избыточное потребление, разрушающее организм. Так и тут: мы находимся среди изобилия приятного, полезного и любопытного, на которое мы не рассчитаны. Происходит истощение. И сейчас очень много детей, которые ничего не хотят, ничего не делают, в гробу все видали и находятся в состоянии… дай Бог, чтобы не в клинической депрессии.
— А что же делать-то с этим дофаминовым истощением? Как справиться с избытком удовольствий и как их дозировать?
— Пока нет единой точки зрения. Может быть, через какое-то время мы придем к выводу, что обрушиваем на детей и на себя невероятные объемы информации и они не должны быть в открытом доступе. Но для этого нужен общественный консенсус. Это как с курением. Раньше все курили при детях, и никто не видел в этом проблемы. При этом можно было сколько угодно запрещать детям курить самим, и все было без толку. Для них это было привилегией взрослых: «Взрослым кайф, а нам не дают». А когда взрослые, договорившись между собой, декларировали, что курение — это просто некоторая проблема, которая есть у некоторых людей, ничего хорошего и приятного в этом нет и надо просто выделить этим людям стремненький закуточек, где они пусть покурят, чтобы не умерли от абстиненции, подростковое курение статистически резко пошло вниз. «А смысл?» Это не круто, не интересно, не пропуск во взрослый мир, это проблема, которая у кого-то есть.

Может, точно так же через какое-то время взрослые придут к идее информационной гигиены, к пониманию, что это — зависимость, что нельзя в себя пихать все подряд, что не надо часами сидеть в телефоне и реагировать на каждую новость. Скажут: «Слушайте, почему это у нас в руках штучки, через которые мы постоянно истощаем нашу дофаминовую систему? Давайте как-то это дело закруглим». Тогда и у детей будет какая-то модель поведения.
С другой стороны, может быть, дети сами адаптируются. Когда-то была куча фантастических рассказов, что все, как зомби, будут сидеть перед телевизорами. И что мы видим? Часть современных детей даже не знает, что такое телевизор, а другая часть и не смотрит в его сторону. Всякие могут быть варианты.
— Выше вы упомянули прекрасный термин — «присвоение мира». Что это такое? Не могли бы вы подробнее описать?
— Чувство, что этот мир для тебя, что ты в нем не пропадешь. Что ты примерно знаешь, как все устроено. Что он к тебе в общем и целом дружелюбен. Что ты в нем ориентируешься.
— Это, на ваш взгляд, достижимо, нормально?
— Мне кажется, это желательное состояние человека. Чтобы человек ходил по миру не как зашуганный зверек, всего на свете боясь и чувствуя, что он тут не по праву, что его выгонят или прихлопнут. Ты идешь, и тебе нормально. Ты не боишься попросить людей о помощи. Нет испуганно-напряженного выражения на лице, как у наших людей в отелях all inclusive. Все отправляют туда своих тещ и свекровей, и вроде как им все нравится, но лица такие, будто сейчас кто-то выйдет и скажет: «Так, а вы что тут делаете? Ну-ка выйдите отсюда!» Вот это как раз мир не присвоенный, когда ты ходишь так бочком, бочком. Все время тебе кажется, что ты здесь не по праву.
— Считается, что благодаря этому мы охраняем некие традиционные ценности.
— Мне кажется, что такая нервность по отношению к миру присутствует у всех людей, с разнообразными ценностями, в том числе и совершенно нетрадиционными. Присвоение мира — это безопасность.
— Вы в своем понимании будущего поколения детей, скорее, оптимист?
— В этом есть слишком много оценочности. Как тут можно говорить про оптимизм или пессимизм?
— Ну вот, например, я родитель и в некоторых ситуациях становлюсь в тупик. Например, я вижу колоссальную разницу между собой и детьми.
— Ну и слава Богу. Если бы дети не отличались от родителей и делали в каждом поколении то, что считают нужным их родители, мы бы все до сих пор сидели на деревьях. Это как раз и есть адаптивность человеческого вида в целом. Это то, что дает человечеству возможность решать глобальные новые задачи. Дети не обязаны нас повторять. Да, у нас разное понимание ответственности. Отцу, который всю жизнь работает в банке, кажется безответственным поведение сына, который лежит на диване. А сыну кажется безответственным поведение отца, который пользуется пластиковыми пакетами, в то время как по океанам плавают целые острова из неразлагаемого пластика. Это разный взгляд на жизнь, и неизвестно еще, кто прав. В этом смысле «оптимизм» или «пессимизм» подразумевает, будто мы знаем, как надо. Мы не знаем.
— Можно ли сказать, что сегодня на смену воспитанию пришла концепция развития? Все же это разные вещи.
Ну да, идеология воспитания — это нормализация. «Мы знаем, как надо, и наша задача — обтесать ребенка так, чтобы он существовал внутри социальных рамок». Но мы больше не знаем. Мы понятия не имеем, что будет для этого ребенка плюсом или минусом. Вот взять этих нынешних детей, которые лежат на диване и ничего не делают. Это чрезвычайно беспокоит современных родителей. С нашей точки зрения, это ужас. А вот введут, например, вдруг базовый доход — и получится, что все те, кого нацеливали на успех, будут с ума сходить и на стенку лезть, а эти будут прекрасно жить и получать удовольствие. Кто знает? Вот это панические тревожное развитие ребенка как раз и связано с нашим незнанием. Надо впихать в него всего побольше! Ты как бы отправляешь ребенка на космическом корабле: что же дать ему с собой? Да все, что влезет. Три сундука тревожности. Что-нибудь да подойдет.
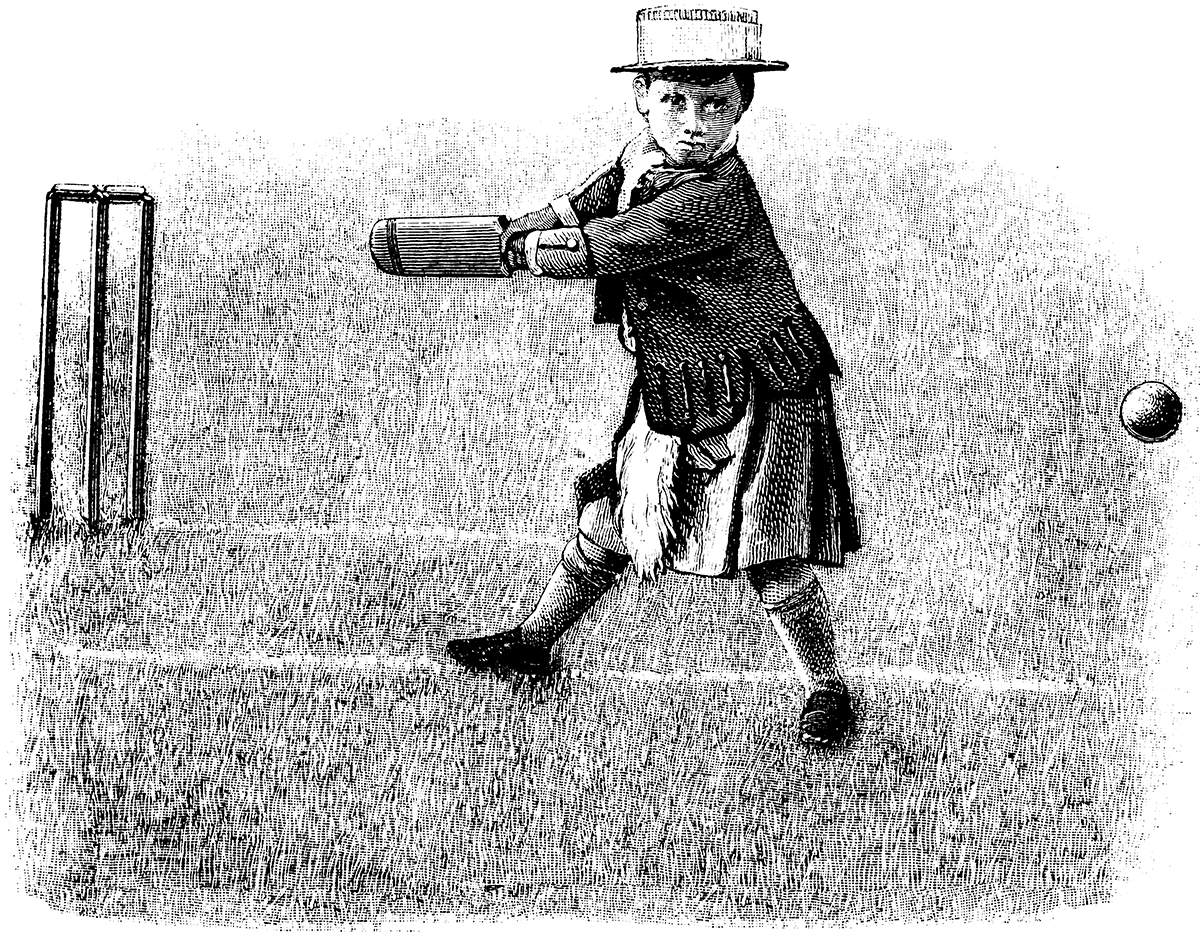
В оформлении использованы изображения с сайта Davidrumsey.com
Спасибо за ваше внимание! Уделите нам, пожалуйста, еще немного времени. Кровь5 — издание Русфонда, и вместе мы работаем для того, чтобы регистр доноров костного мозга пополнялся новыми участниками и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом было больше шансов на спасение. Присоединяйтесь к нам: оформите ежемесячное пожертвование прямо на нашем сайте на любую сумму — 500, 1000, 2000 рублей — или сделайте разовый взнос на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Помогите нам помогать. Вместе мы сила.
Ваша,
Кровь5